С. Цветков. Сделка Византии и Руси: «ход королевой» против правил

Сделка с «архонтом росов», на которую вынужден был пойти «василевс ромеев», была по сути неприемлемой с точки зрения византийских традиций.
***
После русско-византийских переговоров, состоявшихся, очевидно, в 987 году, принятые решения были предположительно таковы:
1. Василий II выражал готовность возобновить действие прежних русско-византийских договоров. Но отныне военно-политический союз Руси и Византии должен был получить совершенно другую основу. Больше не могло быть речи об опасливых отношениях соседей поневоле, разнствующих между собой во всем и прежде всего в вопросах веры. Новому соглашению предстояло скрепить навечно дружественные узы между двумя христианскими государями и двумя христианскими народами. С этой целью Владимиру предлагалось принять личное крещение по греческому обряду и содействовать быстрейшему обращению в христианство «бояр», «руси» и «всех людей Русской земли».
2. В случае выполнения этого условия, международный ранг крещеной «Росии» подлежал коренному пересмотру. Ей предстояло войти в византийское сообщество народов на правах ближайшего союзника василевсов и защитника христианства в «скифских» землях. Василий II обещал закрепить почетное место Русской земли в системе внешнеполитических приоритетов империи как на уровне государственных, так и церковных отношений. Вслед за духовным усыновлением Владимира император обязывался даровать ему цесарское достоинство.
В этом качестве Владимир мог рассчитывать и на вполне земное родство с Василием II через вступление в брак с его сестрой – багрянородной принцессой Анной. Светское величие царственной четы следовало подкрепить основанием в Киеве митрополичьей кафедры. Чтобы компенсировать Русской Церкви подчинение власти Константинопольского патриарха, Василий II соглашался предоставить ей большую степень независимости в вопросах внутреннего устройства, выбора языка литургии и т. д.
3. Взамен от Владимира ожидали немедленного прекращения военных действий против империи и, по возможности скорейшей, отправки в Константинополь крупного русского отряда.

Василий II давно заподозрен историками в неискренности, если не сказать в вероломстве, по отношению к Владимиру: будто бы, уступив на словах русскому князю, византийский император и не думал когда-нибудь выполнить свое обещание относительно его брака с Анной.
Упирают главным образом на то, что Василий якобы был связан в своих решениях строгой матримониальной доктриной византийского императорского двора, запрещавшей династические браки между членами царского дома и «варварами». Политические, юридические и богословские обоснования этого запрета содержались в постановлениях Трулльского собора 691-692 гг., где, правда, василевсам не возбранялось родниться через браки с иноземными правителями христианского вероисповедания.
Однако со временем светская власть по-своему перетолковала соборные постановления, и отнюдь не в сторону умеренности. При императорах Македонской династии (867-1056 гг.) любое брачное предложение из-за границы стало рассматриваться как нежелательный мезальянс.
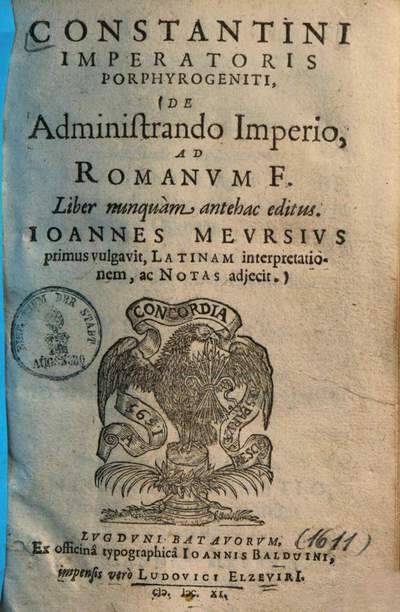
«Об управлении империей» — историко-географический трактат императора Константина Багрянородного (905-959)
Например, Константин Багрянородный («Об управлении империей», глава 13) высказывается по этому поводу весьма категорично: «никогда василевс ромеев да не породнится через брак с народом, приверженным к особым и чуждым обычаям, по сравнению с ромейским устроением, особенно же с иноверным и некрещеным, разве что с одними франками». В его глазах любые притязания подобного рода со стороны иноземных владык есть всего лишь «неразумные и нелепые домогательства», особенно неуместные, если они исходят от «этих неверных и нечестивых северных племен».
При этом оказывается совершенно неважным, «той или иной из царских родственниц» является невеста, «из далеких или близких царскому благородству [она была], ради общеполезного или какого иного дела [она выдана]…», – в любом случае, пишет Константин, присваивая себе право толкования соборных решений и, не моргнув глазом, искажая их суть, «канон это запрещает и вся церковь считает это чуждым и враждебным христианскому порядку».
Но говорить с чистой совестью о недопустимости иноземных браков имперским «расистам» мешало отсутствие у них чистой родословной; на деле отступления от заявленного «брачного императива» бывали совсем не редки, и каждое столетие было свидетелем нескольких подобных случаев.
Когда насущные политические нужды властно заявляли о себе, сватовство иностранного государя к византийской принцессе проходило легко и без заминок. Так, в 927 г. Роман I Лакапин был вынужден выдать свою внучку Марию-Ирину за «василевса болгар» Петра Симеоновича, чтобы приостановить болгарский натиск на балканские владения Византии.
Оттон I три года (967-969) безуспешно пытался получить согласие Никифора Фоки на бракосочетание Оттона II с одной из византийских принцесс. Не помогали ни дипломатические переговоры, ни бряцание оружием. Но как только Иоанн Цимисхий, сменивший Фоку на троне, был поставлен перед необходимостью свернуть военные действия в Южной Италии, чтобы сосредоточить все силы против Святослава, брачный контракт с германским императором был немедленно подписан, причем по инициативе византийской стороны.
Конечно, могут возразить, что внучка Романа I, отданная за Петра, и племянница Цимисхия Феофано, ставшая женой Оттона II, были не чета багрянородной Анне, поскольку обе они приходились кровными родственницами не законным василевсам, а их формальным «соправителям».
Но ведь при заключении в 987 г. русско-византийского договора и речь шла не о преодолении империей временных военно-политических трудностей, а о сохранении Василием II личной власти и судьбе Македонской династии в целом. В той ситуации он вряд ли руководствовался требованиями матримониальной традиции, к тому же вовсе не являвшейся такой уж незыблемой.
Василий II не был человеком, слепо придерживавшимся раз навсегда установленных правил. Наоборот, Михаил Пселл рисует его сторонником неординарных решений, особенно в минуту опасности. Политическая выгода всегда представляла для него несравненно большую ценность, нежели верность обычаю, в том числе и в области династических браков.
Имеется бесспорное свидетельство того, что он отнюдь не считал смертным грехом выдачу багрянородной царевны замуж за иностранца, так как через несколько лет после замужества Анны он отдал и другую свою сестру за германского императора Оттона III. Правда, для того, чтобы получить ее, последнему понадобилось целых шесть лет нудных переговоров (995-1001 гг.), однако свадьба все-таки состоялась, хотя Василий уже не был тогда в таком плачевном положении, как в 987-988 гг.
Словом, поведение Василия II во всех трудных случаях определяли конкретные обстоятельства, что, принимая во внимание бурные события его царствования, совсем не удивительно. Поэтому нет ничего невероятного в том, что в 987 г. он с чистым сердцем пошел на заключение родственного союза с Владимиром, раз никакие другие посулы русскому князю не могли надежно гарантировать безотлагательной отправки им в Константинополь обещанной военной помощи.
В конце концов, заключая брачный договор с «архонтом росов», Василий II, как человек умный, конечно, понимал, что в данном случае он не столько нарушает официальную доктрину, сколько идет наперекор общественному мнению, настроенному враждебно по отношению к «народу рос» в связи с обострившимся ожиданием на исходе тысячелетия второго пришествия Христа.
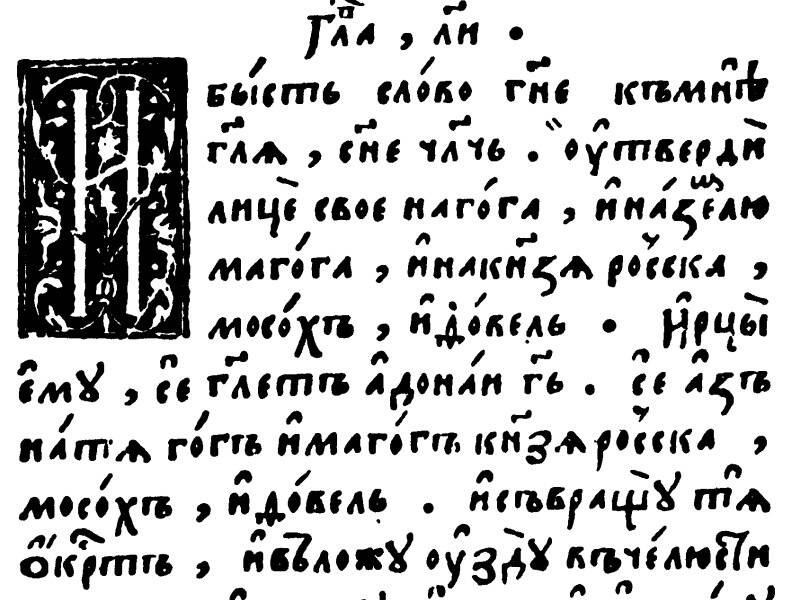
Русы («народ рос») отождествлялись в Византии с библейским народом Рош, с которым связывалось исполнение пророчеств о падении Константинополя. В конце Х – начале XI в. антирусские настроения в византийском обществе были достаточно сильны, о чем свидетельствует, например, одно византийское сочинение, где Владимир назван «змеем», похитившим несчастную Анну.
Но коль скоро возможность этой брачной сделки ставилась в зависимость от крещения русского «варвара», то страдал от нее один лишь имперский предрассудок, а не христианский принцип династической политики, сформулированный Трулльским собором – не выдавать византийских принцесс замуж лишь за некрещеных варваров.
К тому же в 987 г. тяжелые раздумья о собственном будущем заставили Василия II начисто забыть об аристократической спеси «василевса ромеев». Есть сообщения арабских историков, что между сентябрем 987 и апрелем 988 г., то есть одновременно с русско-византийскими переговорами, Василий искал помощи против Фоки в Каире, у египетских Фатимидов, и согласился на предъявленные ему «унизительные условия», хотя смог договориться не более чем о дипломатической поддержке.
Серьезность намерений Василия II в отношении русского брака Анны явствует между прочим из истории с адресованным ему письмом французского короля Гуго Капета (987-996 гг.). Этот документ был составлен в конце 987 – начале 988 г.
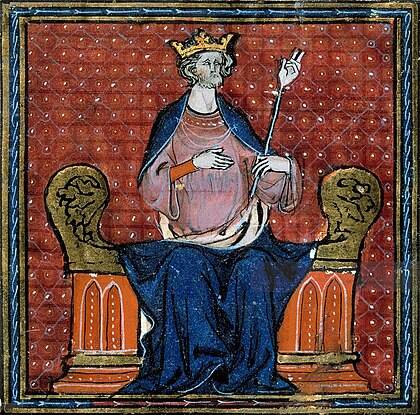
Гуго Капет (940-996) был неграмотным и возложил это поручение на реймсского архиепископа Герберта, который в 999 г. стал римским папой под именем Cильвестра II.
В то время основатель династии Капетингов был также не прочь породниться с византийскими василевсами, устроив брак своего сына Робера с «дочерью священной империи», под которой несомненно подразумевалась Анна – единственная на тот момент совершеннолетняя невеста, рожденная «в порфире».
Казалось, Гуго выбрал для сватовства самое подходящее время – восстание в восточных провинциях должно было сделать Василия податливым, дабы не поставить под угрозу еще и южноитальянские границы империи. Однако письмо с брачным предложением, по всей видимости, так и не было отправлено в Константинополь. Причиной тому, надо полагать, было обескураживающее известие о помолвке Анны с русским князем.
Действительно, едва ли не тотчас после написания письма Гуго бросил свою константинопольскую затею как безнадежное предприятие и скоропалительно (не позднее 1 апреля 988 г.) женил Робера на Сусанне, вдове фландрского графа Арнольда II. Эта поспешность, очевидно, была вызвана тем, что, по достоверным сведениям информаторов Гуго в Константинополе, свадьба Владимира и Анны считалась при византийском дворе делом решенным.
Итак, Василий II был слишком гибким политиком, чтобы позволить политической догме опутать себя по рукам и ногам. И затем, мы не должны упускать из вида всей исключительности политической ситуации 987-988 гг., когда самой силою вещей русско-византийские отношения приобрели качественно иной характер, поставив Василия II перед необходимостью переосмыслить роль «внешней Росии» в начертанной прежними василевсами схеме внешних связей и приоритетов Византии.
Дерзкое требование Владимира вынуждало искать другую почву для сближения, нежели сезонная торговля и наёмничество. Обращение русского «архонта» и его страны в христианство (и женитьба Владимира на Анне, как условие этого обращения) отвечали стратегическим интересам Византии. Как показали дальнейшие события, Василий II отлично понимал это. Важность и необходимость русско-византийского союза отнюдь не исчерпывались для него единовременной помощью русского князя против Фоки. Обманывать Владимира в таком щепетильном деле как династический брак значило играть с огнем.
Нельзя забывать, что в 986-987 гг. русы не были где-то далеко, они находились рядом, у самых границ империи, действуя заодно с болгарами. Дружба Самуила с Владимиром грозила Византии в самом ближайшем будущем многими бедами, возможно не меньшими, чем восстание Фоки. В цели Василия II на переговорах с Владимиром входило таким образом еще и расторжение военного союза Руси с Болгарией и, забегая вперед, надо сказать, что в политическом плане это ему вполне удалось.
С учетом всех этих аспектов русско-византийских отношений на 987 г. переговорная программа Василия не только не выглядит чем-то невозможным с точки зрения внешнеполитических и матримониальных традиций Византии, но, напротив того, предстает совершенно необходимым, разумным, и, безо всякого преувеличения, великолепным дипломатическим ходом. Словно шахматный игрок, попавший в матовое положение, Василий II пожертвовал королевой, и эта жертва спасла все.
Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco
Еще по теме:
Leave a reply
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.



