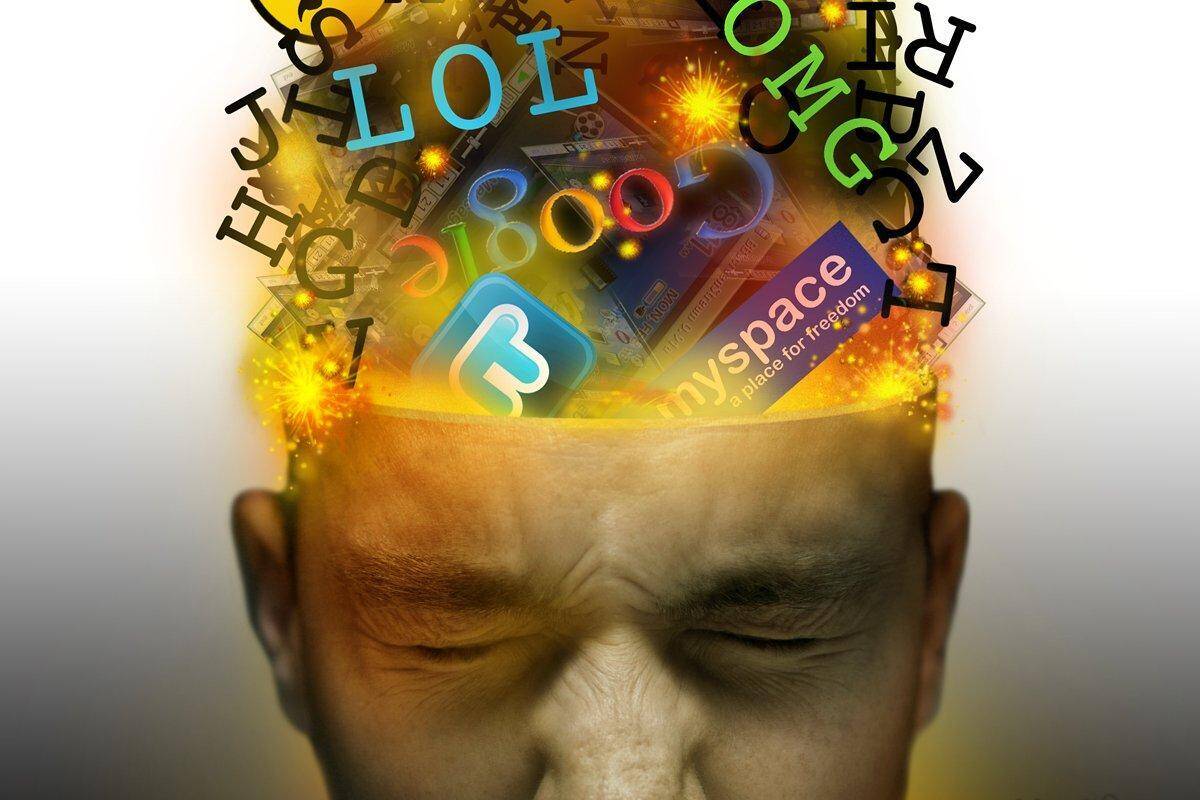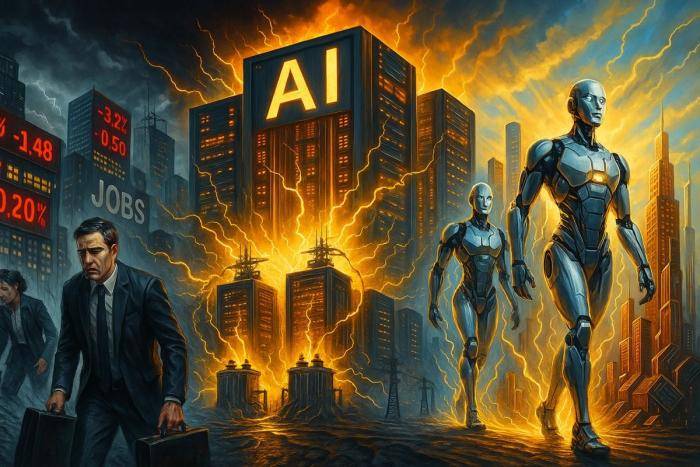Anlazz. Образовательные проблемы настоящего и будущего
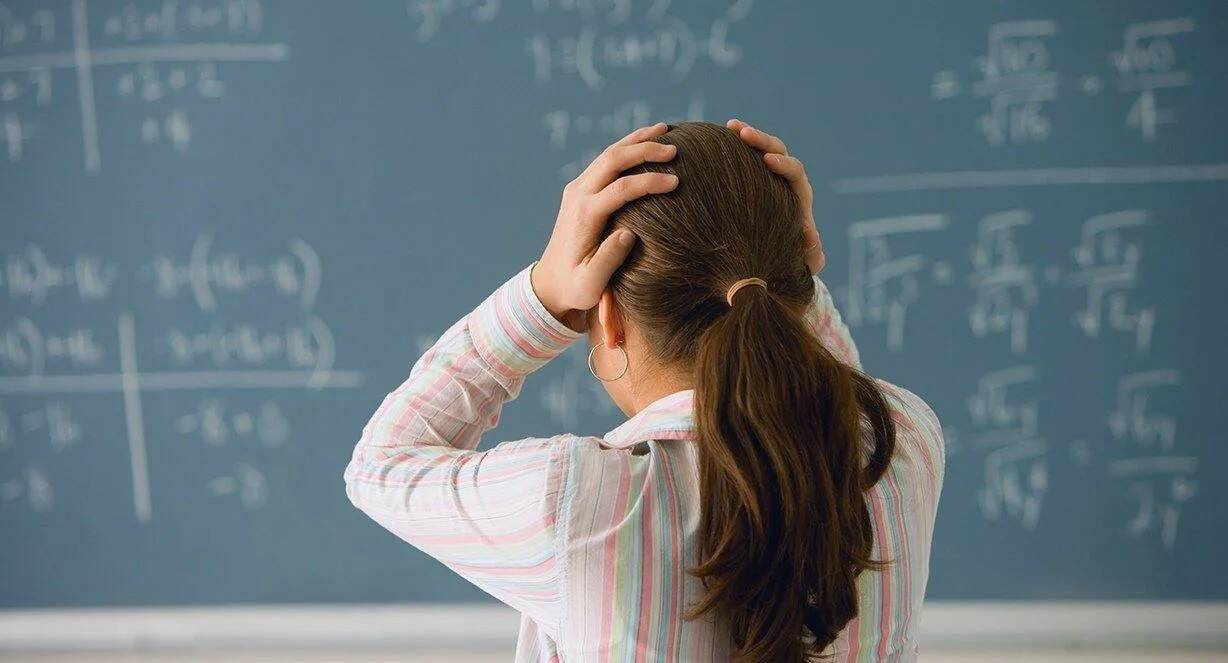
Мир на пороге глобальной образовательной катастрофы
Если честно, то — в продолжении поставленной в прошлых постах темы о неизбежности фундаментальных изменений жизни человека для обеспечения его выживания — позволяю разобрать поподробнее один частный аспект данной проблемы. А именно: то, что будет происходить — а точнее, уже происходит — с такой сферой человеческой деятельности, как образование. А ведь тут реально уже идут революционные изменения — и только наша инерция мышления мешает нам а) их увидеть б) адекватно на них отреагировать.
Итог — практически «образовательная катастрофа» по всему миру. Включая РФ, в которой уже очевиден дефицит специалистов, и совершенно очевидно, что в ближайшем будущем ситуация окажется только хуже. При том, что объективно те же самые имеющиеся условия, те же самые социальные и прочие изменения могли бы — в случае гипотетической адекватности реакции — дать невероятный положительный эффект в описываемой области! Да, именно так: мы — теоретически — могли бы получить огромное количество не просто квалифицированных кадров, а кадров, способных к невозможной ранее гибкости и эффективности мышления! Но вместо этого получает унылую массу «универсальных потребителей», которые очень хорошо умеют «выбивать себе зарплату», но очень плохо — что-либо делать. (В особенности делать что-либо реальное.)
Однако пойдем по порядку. И, прежде всего укажем на то, что в течение последних трех-четырех тысяч лет главной задачей «образования» было одно: передача знаний. Это стало настолько банальным, что фраза «школа — источник знаний» или «люби книгу — источник знаний» воспринимается большинством как что-то наподобие «Волга впадает в Каспийское море». Как говориться: ну впадает — и впадает, нам то что? Но это было — а точнее есть — представление ложное. Потому, что как раз сейчас «совершенно неожиданно» стало понятным: насколько же такое представление ошибочно. В текущих реалиях, конечно.
Точнее сказать, понятным это стало несколько ранее — лет сорок назад, думаю, если брать реалии нашей страны. Потому, что уже тогда количество доступных обычному человеку знаний очень резко «поперло вверх». Да, именно так: еще в 1920 годах «покупка книги» была событием — книги традиционно стоили дорого. (Тогда для решения этой задачи было введено печатание дешевых брошюр на плохой бумаги плохой печатью — и они, эти брошюры, разлетались как горячие пирожки.) Библиотек было мало относительно «общей массы населения» — настолько, что «брать книгу на дом» тогда было почти невозможно: читали исключительно «в помещении». (Ну да, а вдруг не вернут печатное изделие ценой как минимум в 1/10 средней зарплаты?)
Журналы и газеты, кстати, так же читали в значительной части «на местах» — потому, что, конечно, оные дешевы. (Газеты, к журналам это не относится.) Но вот напечатать данные издания в достаточном для всех желающих количестве было просто невозможным. Ну, и да: навыки чтения — они так же были не сказать, чтобы распространенными. (То, что именовалось тогда «умением читать», было по сути, умением «читать по слогам», медленно. Именно поэтому даже в 1930 годы в рабочих, а в особенности крестьянских клубах было распространено «общественное чтение» тех же газет — «со слуха» большая часть воспринимала лучше.)
Но уже к концу 1960-началу 1970 годов это положение изменилось. И потому, что полиграфическая промышленность совершила огромный рывок — например, в СССР в 1930 годы было издано книг порядка 300 млн. экземпляров, а в 1970 — уже 1,8 млрд. экземпляров. (Рост в 6 раз.) Для журналов рост был еще больше — с 250 млн. до 3 млрд. экземпляров (более чем в 10 раз). Для газет — с 7 млрд. до 35 млрд. штук. Ну и т.д., и т.п. И потому, что появились иные источники информации: радио и телевиденье. Ну да: в 1920 годах те же радиоприемники были еще в «следовых количествах», а в 1970 годы телевизор был уже у 80% семей. (Не было его там, где невозможно было вещание — в глухой тайге, степи, тундре и т.д.)
Кстати, тот факт, что по ТВ тогда показывали «лишь 2 программы», тут мало что меняет: человек, в любом случае, смотрит только одну «картинку». Так что вопрос о «телезависимости» встал уже в это (1970 годы) время. Впрочем, ладно — тогда еще это не было «зависимостью» в современном понимании, однако в качестве источника информации «эфир» уже выступал в значительном количестве.
На этом фоне роль «школы, как источника информации» упала где-то до нуля! Ну да: это раньше для того, чтобы «овладеть знаниями», надо было искать способ «послушать знаменитого мудреца». Или, в крайнем случае, почитать — в читальном зале столичной библиотеки, конечно — немногочисленные книги. (То же Циолковский учился именно в Московской библиотеке — читал там учебники по физике, математике, химии и т.д.) Теперь же — в условные 1970-80 годы — в любом городке можно было найти практически ВСЕ по ВСЕМ темам. Начиная с букваря и заканчивая Ландау-Лившецем. (Ну ладно — для написания кандидатской тогда ЕЩЕ приходилось книги заказывать. Но вот институтский курс был в свободном доступе очевидным образом.)
Про современность и говорить не стоит: любые знания можно получить, даже не выходя из дома. Причем в любой форме — от тех же учебников (Ландау-Лившиц) до любых видеороликов с 3Д-моделями и лекций мировых знаменитостей. Набери в браузере, нажми кнопку — ну, иногда, конечно, надо платить, но то же самое есть и на бесплатных источниках, стоит только получше поискать — и получай все, что хочешь. Если хочешь, конечно…
Если! Потому, что как раз этого «если» становится все меньше и меньше. И началось указанное еще в «тех самых» 1970 годах, когда информационный вал накрыл среднесоветского школьника или студента. (Пока говорим про нашу страну.) Сейчас же… в общем, все очень печально. Например, как показал «дистанционный эксперимент», даже студенты — просто находясь вне «институтских стен» — как правило, на учебу «забивают», усваивают материал много хуже, нежели при очных методах. (И это при том, что физически — с т.з процесса передачи информации — просмотр лекции по монитору еще оптимальнее, нежели прослушивание ее, находясь в аудитории.) Школьники же, переведенные на «дистанционку», как правило, не учатся вообще.
Но даже будучи помещенными в «специально построенные помещения», указанные выше школяры всех возрастов показывают гораздо более слабый процесс «усвоения знаний», нежели их предшественники 20, 40, или 50-летней «давности». А ведь тут мы не указали огромное количество иных факторов, которые у «текущих» гораздо благоприятнее — начиная с того, что сейчас тупо меньше детей в классах, нежели в каком-нибудь 1978 году, и заканчивая тем, что сейчас (в принципе) наличествует гораздо большее число педагогических методик. (Например, еще в 1950 чуть ли не главным методом «вколачивания знаний» был пресловутый «отцовский ремень» — хотя и учитель мог указкой по рукам съездить. А теперь даже в сельских школах есть штатный психолог, есть огромное количество методистов, есть многочисленные и часто дорогостоящие «неклассные работы», есть заботливые матери, способные помочь, наконец. А не так как в указанные 1950-е, где было по 8 детей в семьях, да еще и скотина даже в городе.)
То есть, как уже говорилось не раз, современные дети — и не дети — учатся в таких идеальных условиях, в которых ранее не учились даже царевичи. (В любом случае мультимедиа-роликов у последних не было. И собирать роботов они не могли. И даже велосипеды у «наследников престола» были без скоростей.) Но результат этого оказывается гораздо более худшим часто, нежели у выпускников сельских школ прошлого! (В плане способностей выпускников к исполнению общественно-полезных действий. В том числе и в меняющихся условиях: так, инженер условного 1965 года выпуска в своей «трудовой жизни» (с 1965 по 2005 год) мог «пережить» 6 (шесть) поколений элементной базы — лампы, транзисторы, ИМ, БИС, микропроцессоры и микрокомпьютеры. И прекрасно со всем этим работать А для современного инженера смена одного протокола на другой — уже проблема, требующая переобучения.)
В общем, парадокс — как и везде в нашей жизни: чем лучше, тем хуже! Точнее, как уже говорилось: добро всегда производит зло, а победа — поражение. С одним дополнением: если ничего не делать! Потому, что если делать — то есть, если начинать бороться с будущим поражением уже сразу после победы (вместо того, чтобы отдыхать на лаврах), то можно будет пройти этот «цикл» с минимальными потерями. Впрочем, данный момент уже — тема совершенно иного разговора.
Главная проблема современной образовательной системы
Итак, основная проблема текущей образовательной системы состоит в том, что она … делает совершенно не то, что нужно делать. А то, что делала всегда — начиная с Древнего Египта и заканчивая периодом Ликбеза. Именно же: старается «дать знания». То есть, некую информацию об окружающем мире. Тогда, как именно этой самой информации у современного человека — выше крыши. И в реальности ему нужно не ее получение, а, скорее, обратный процесс.
Состоящий в построении мощнейших «информационных фильтров», отделяющих реально необходимое от всего остального. Но как раз эту задачу образовательная система не решала НИКОГДА, и поэтому технологий для ее обеспечения не имеет. (Ну понятно: еще сто лет назад любой врач, например, мог читать все имеющиеся в мире статьи на медицинскую тему. Ладно, не все — но наиболее важные. Сейчас же даже по своей специальности он читает только то, что требуется стандартом. Всё!) Отсюда вытекает и ее — этой самой системы образования — вопиющая неэффективность. Причем, неэффективность, вовсе не снижающаяся от внедрения новых технологий — а, скорее, наоборот.
Кстати, сделаю небольшое отступление: это касается не только образовательной системы, но и вообще, всего! Потому, что если чего в нашем мире и переизбыток — так это информации, причем информации верной, реальной. (Лжи, конечно — так же не переизбыток даже, а гиперизбыток, но пока этот момент рассматривать не будем. О нем будет сказано уже отдельно.) Отсюда должна проистекать одна простая мысль: работа по направлению «дать кому-то информацию, которой у него нет» — бессмысленна. Да,да, именно так: и вся «просветительская деятельность», и различная «агитационно-пропагандисткая работа» в текущей реальности давно уже потеряла всякое значение. И вообще, самая глупая из всех возможных целей сейчас — это цель «раскрыть глаза», «дать истину».
Ведь эту истину — при желании — любой человек может получить легким движением пальцев. Ну ладно — пускай еще потратит некие усилия по отфильтровыванию лжи, но все равно, какого-либо дефицита «знаний о том, что есть на самом деле», сейчас нет. Поэтому, например, надо прекратить думать, что «кто-то чего-то не знает» — начиная с основ марксизма и заканчивая тем, кто реально раздувает военные конфликты. Нет-нет, в основном все всё знают — и то, на чем основано богатство миллиардеров, и то, за что реально идут войны — но действуют так, будто «не знают». Потому, что считают это выгодным — для себя как минимум. (Как население Германии в свое время уверяло, что «мы не знали про концлагеря». Даже если речь шла о работавших там людях.)
Впрочем, завершим данное отступление — в данном посте речь-то идет не об этом. А о том, что современная образовательная система — которая (о, сюрприз!) выступает всего лишь развитием «исторической образовательной системы» — по существу, «настроена не на то». Потому, что главной ее «настройкой» выступает «обеспечение доступа к информации» — не важно, в виде учебников, дополнительной литературы, лекций, описания опытов или реалистичных 3Д-моделей. В то время, как как раз это современный человек имеет не в избытке даже — а в сверхизбытке. И в принципе, он может легко «пройти путь» от овладения азбукой до проектирования микропроцессорных систем, даже близко не подходя к «образовательным учреждениям».
Но при этом он, во-первых, не знает, какой ему путь проходить — то есть, как уже было сказано, не имеет тех фильтров, которые позволят ему отсеять триллионы бит ненужной информации. (Ну ладно, все убеждены, что тригонометрия — не нужна, отбросим ее. А, скажем, объектно-ориентированное прораммирование? А помню времена, когда из всех утюгов неслось: это — передовитая отрасль, дающая большие зарплаты. Ну, а теперь… (А теперь, кстати, в тех же США оказывается, что необходимы … лица, знающие язык Кобол? Ну да: оказывается, жизненно-важные системы написаны на нет. Вы помните про «язык Кобол»? Его вообще кто-то изучал после 1970 годов?)
А, во-вторых, современный человек, в общем-то, вообще не уверен, что ему надо чего-то изучать. Потому, что он и так неплохо устраивается в жизни: например, в том же ЕС до сих пор можно жить на пособия лучше, нежели на половину предлагаемых зарплат. Ну, и вообще, популярные тиктокеры, звезды OnlyFans и рэп-исполнители обходятся без образования вообще… Впрочем, что самое неприятное, в общем-то данная проблема возникла задолго не только до появления Тик-тока, но и до возникновения Интернета. (Как уже было сказано, начало «образовательного кризиса» датируется 1970-ми годами.)
То есть, вот уже почти полвека люди «не знают, для чего учиться». До этого знали, а после этого — нет. И чем дальше, тем ситуация усугубляется. (Разумеется, речь идет исключительно о статистических проявлениях — отдельные личности вполне могут выстраивать собственную образовательную стратегию где-то с уровня средней школы. Но именно что отдельные.) Поэтому никакие «усовершенствования образовательной системы» тут не помогают, а, скорее, наоборот. (Увеличения потенциальных возможностей для получения знаний увеличивает и сложность постоянного выбора — то есть, еще более перегружают и так уже до предела «перегретый» необходимостью выбора мозг.)
Почему так происходит? Да очень просто, никаких тонкостей особых тут нет. Дело в том, что — опять же — в течение многих тысяч лет сама труд, в общем-то, делился на две категории. На труд «физический» — как правило, не ценяшийся вообще, и поэтому добровольно никогда не выбираемый. И труд «умственный», который, напротив, был крайне редок, ценен и если человек имел возможность заниматься им, то он должен был им заниматься просто по определению. Проще говоря, даже банальный писарь в каком-нибудь «заштатном городишке» жил уже в разы — если не на порядок — лучше крестьянина. (Богатые крестьяне могли получать больше — но и вкалывать им приходилось так же много больше.)
Что же касается «человека с высшим образованием», то тут даже говорить что-то смешно: скажем, инженер в 1900 году имел уровень жизни, сравнимый с уровнем жизни землевладельцев или капиталистов. (Про писателей вообще говорить не стоит — Лев Толстой, например, получал за свои романы денег много больше, нежели был доход с его немалого имения. Или вот Хемингуей, будучи начинающим автором, мог спокойно жить в Париже, пить и есть вдоволь, ходить по театрам и т.д., пиша лишь небольшие рассказы. Но «писательский рай» — это особый случай, его надо рассматривать отдельно.)
То есть, в общем-то, мотивация «учиться» задавалась автоматически: обучишься — будешь вести сытую и нетяжелую жизнь. (Ну, и да, тут надо еще прибавить то, что само получение информации» в условиях «информационной недостаточности» имеет очевидную ценность — когда из всех «развлечений» лишь партия вист с давно надоевшими соседями, любая книга выглядит сокровищем.) Не выучишься — будешь работать тяжело и долго, и умрешь молодым. Причем, каждый ребенок в каждой стране видел указанное с раннего детства. (Вне того, в какую страту он входил.) Всё! Больше ничего не надо.
Но с середины прошлого века «умственный труд» стал массовым, потерял уникальность — и, соответственно, высокую оплату. Что, во-первых, уничтожило его высокую престижность, во-вторых же — уничтожило высокую потребность в нем. (То есть, если ранее лицо с в/о могло даже не думать про безработицу, то сейчас…) Собственно, отсюда и вытекает первый момент «уничтожения мотивации» к учебе: стать «лучше других» просто пройдя через вуз, уже не получится. Второй же момент — это уже указанный переизбыток информации. В результате чего современный человек, например, читает «книги по специальности» через силу, потому, что его заставляют. (А ранее, как говорилось уже, делалось это с удовольствием, для удовлетворения информационного голодания.)
Поэтому да, кризис! А точнее, не кризис даже, а настоящая образовательная катастрофа, сравнимая с демографической. Потому, что, формально, конечно, в образование вваливается огромное количество средств. Но, во-первых, тратятся они не бессмысленно даже — а вредно: увеличивать информационное давление на человека уже нельзя, это только «отупляет» его. А, во-вторых, «мотивационную систему» все эти изменения не затрагивают — и все возможности по «увеличению числа знаний» пролетают мимо большей части населения. И поэтому одновременно с ростом оснащенности школ и вузов, одновременно с ростом числа преподавателей и студентов растет и число людей, которые оказываются не способны даже к тому, что еще сто лет назад было нормой для лиц со средним (!) или, даже, «полным начальным» образованием!
Что поделаешь: кризис — он кризис и есть! А точнее, Суперкризис, а еще точнее, перелом такой глобальности, которой не было чуть не со времен «городской революции» V тысячелетия до Р.Х. И «так просто», за жалкие сто лет он не преодолевается. Так что не стоит особо отчаиваться — наступит время, и все указанные проблемы будут устранены. Причем, пути для решения их (проблем) уже имеются, и вопрос только в том, что лежат они за теми рамками, которые «исторически» определены для образования.
Но об этом надо будет говорить уже отдельно.
Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco
Leave a reply
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.