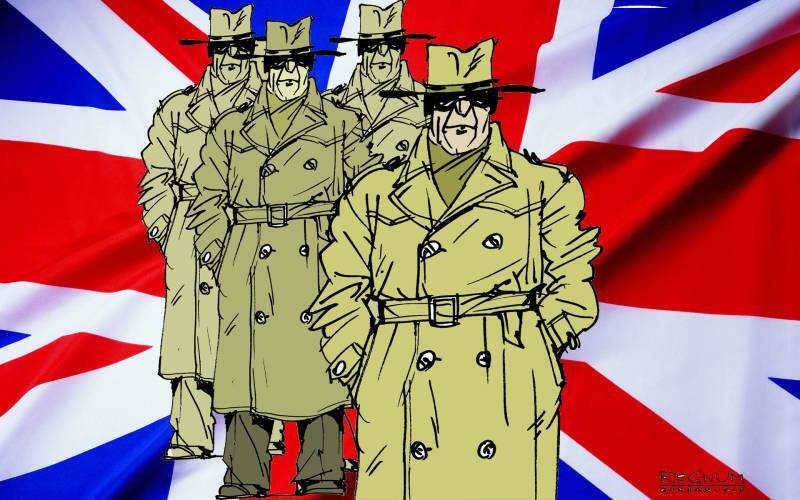Алексей Чадаев. Долгая история

После моей клубной лекции на Острове 10-22 ко мне подошла с вопросом одна из участниц — а там, напомню, собирали в этот раз университетские команды. Просит совета. Они — классический университет в одном из сибирских областных центров, городе большом и промышленном. Руководство — и федеральное, и региональное — разумеется, озабочено всяческими «инновациями», «цифровизациями» и «технологическим прорывом». По сей причине все внимание достаётся местному политеху — ремонтируют помещения, закупают оборудование, создают всякие инкубаторы и лаборатории. Университет же, где учат историков, филологов, культурологов, литературоведов, журналистов и т.д. — предоставлен сам себе и тихо загибается, в стороне от ослепительно модного инновационного мейнстрима.
Я ей дал простой совет: хотите быстро привлечь к себе внимание — открывайте школу блогеров. И пусть пишут и снимают про актуальную областную повестку, да так, чтобы это гарантированно попадало на столы начальствующим. Да, это опасная игра — провинциальные начальники нынче чрезвычайно нервные к любым формам публичного освещения своей деятельности. Но о вас, по крайней мере, совершенно точно вспомнят.
А сам задумался.
Много лет назад я писал у себя на сайте о публичной полемике между Каспером и Хеннесси — на тот момент бывшим и действующим ректорами Стенфорда (сейчас уже оба бывшие). Вопрос касался как раз места Liberal Arts в стенфордской модели образования. Она, как известно, T-shaped — то есть основана на сочетании широты кругозора (горизонтальная палочка в букве Т) и глубины погружения собственно в профессию (вертикальная палочка). Но вопрос о балансе и пропорциях — то есть о том, насколько широкой должна быть горизонтальная палочка и насколько длинной вертикальная — является предметом постоянной дискуссии.
Позиция Каспера состояла в том, что стенфордский инженер тем и должен отличаться от выпускника колледжа, что, кроме востребованных на рынке digital skills, он ещё должен быть по-настоящему разносторонним человеком с полноценным университетским образованием. Хеннесси же, в свою очередь, задавался вопросом — а не слишком ли много мы грузим в головы наших учеников всяких бесполезных знаний, вроде истории, философии и прочих Cultural Studies? Об этом тогда хорошо писал Кен Аулетта в Нью-Йоркере, и вот что говорит в интервью ему сам Каспер (между прочим, «крестный отец» десятков цифровых гигантов, начиная с Гугла, выросшего из курсовой, которую ему сдавали студенты Брин и Пейдж):
“I am a little concerned that Stanford, along with its peers, is now justifying its existence mostly in terms of what it can do for humanity and improve the world. I am concerned that a research-intense university will become too result-oriented,” a development that risks politicizing the university. And it also risks draining more resources from liberal arts at a time when “most undergraduates at most universities are there not because they really want to get a broad education but because they want to get the wherewithal for a good job.”
Характерная логика. Студенты и без того приходят за рыночно-востребованной профессией, а не за знаниями о мире — и если мы ещё и будем им в этом потакать, тогда вообще не останется места для досужих размышлений о том, how to make the world a better place. А именно это (а вовсе не техническая база) ровно и есть источник того самого intangible интеллектуального превосходства, из которого в своё время и выросли все выдающиеся стенфордские стартапы.
Собственно, это все присказка была.
Теперь сам тезис.
Всерьёз бороться за позиции в инновациях, в создании и коммерциализации новых технологий, прорывных естественнонаучных открытий и т.д. мы сможем ТОЛЬКО в том случае, если у нас останется — то есть выживет — достаточное количество «бесполезных» школ и традиций в пространстве liberal arts: философов, историков, филологов, социологов, культурологов, искусствоведов и т.д. В остальных случаях, даже если мы сохраним сильные инженерные школы, традиции точных и естественных наук, математику и физику, наша роль — в лучшем случае быть «кузницей кадров» для тех, кто действительно будет менять мир. В том числе — нашими руками.
Тезис слишком резкий, и заслуживает подробного объяснения.
Основной концепт, который лежит сейчас на моем виртуальном «рабочем столе», называется «картина мира». У него много разных прикладных имплементаций: например, очень интересная проекция под названием «языковая картина мира» — те различия в восприятии, которые сформированы особенностями языка, используемого для мышления.
Например, сейчас, в порядке упражнений в испанском, я попытался сделать литературный перевод на русский одной невероятно красивой песни, звучащей в фильме по роману Габриэля Гарсия Маркеса «Любовь во время холеры». Споткнулся уже о название — песня называется Hay Amores. Она о том, что бывает такая любовь, которая с годами становится только сильнее, и по-настоящему раскрывается лишь в старости. Проблема в одном: в испанском оригинале Amores — во множественном числе. У нас разве что Маяковский пытался экспериментировать с «любовями» в мн.ч., но как-то не прижилось. Можно сказать «есть романы» — но это будет сильным искажением смысла. Относительно точный смысл — «Есть такие примеры любви», но опять же очень приблизительно. Можно сказать в духе ХIХ века «Есть амуры» — но в русском контексте это вообще какие-то шуры-муры, а не единственная любовь на всю жизнь. El amor в испанском (мужского, кстати, рода) — это не только «любовь», но и «история любви».
В итоге почувствовал себя чукчей из анекдота, который цитирует в одном из своих текстов Пелевин. Когда соплеменники спросили его, каков на вкус торт, который он попробовал на большой земле, чукча сказал: вкусно. Его спросили: «как олень или как тюлень?» (а других вкусов никто из них даже и не знал). Он ответил: нет. Как ебаться. И был прав: его средства выражения не позволяли передать смысл никак иначе.
Но «картина мира» — это далеко не только про язык.
Помянутый уже Пелевин в своей последней книжке «Искусство легких касаний» попытался, как смог, описать взаимосвязь устройства «картины мира» и реакций человека на ту или иную новость или тезис. Его «боевые химеры» — это и есть точные пропагандистские конструкты, безотказно срабатывающие в сознании адресата именно потому, что его «картина мира» (заранее любовно и специально сформированная) идеально подходит под услышанное.
Если по-простому, то когда наш отечественный типаж полковника пожарных войск в отставке, в трениках с провисшими коленками, банкой пива в руках и с мятой картофелиной вместо лица слышит более-менее убедительный рассказ о том, как миром управляют масоны, рептилоиды, британские спецслужбы или инопланетяне — у него нет ни одного способа этому не поверить. Отчасти потому, что никак иначе объяснить всю ту херню, которую он ежедневно видит по ящику, невозможно, а отчасти потому, что нарисованный таким образом мир сразу приобретает логичность, стройность и управляемость. Собственно, вот вам и «химера», и «триггер».
В серьезных идеологических противостояниях на долгой, стайерской дистанции побеждает не тот, у кого лучше подвешен язык. А тот, у кого более проработанная, глубокая, системная и прочная на излом картина мира. К которой он может обращаться всякий раз, когда стоит задача сменить framework дискуссии.
Картина мира, собственно, как раз и складывается из разного рода бесполезных знаний. Самая первая наша картина мира возникает у нас тогда, когда мы, едва научившись говорить, превращаемся в почемучек и изматываем старших вопросами в духе «почему вода мокрая», «почему солнце светит» и «откуда берутся дети». Взрослые бесятся, и не в последнюю очередь потому, что эти знания ребёнку прямо сейчас ни для чего полезного не нужны; ему «просто интересно». А на самом деле именно в этот момент закладывается фундамент его будущего мировидения.
Точно так же первичным «движком» возникновения большинства научных дисциплин было досужее любопытство философов. Именно философы изобрели математику, физику, астрономию, химию, биологию, экономику и т.д. — это, к счастью, достаточно хорошо известно, хотя сейчас об этом предпочитают не вспоминать. История науки — это тоже история возникновения целых отраслей знания из досужего любопытства скучающих средневековых аристократов.
Миф — тоже в первую очередь средство формирования картины мира: на заре человечества, не зная суть явлений и не умея их объяснить, мы придумывали сказки, и рассказывали их детям — то есть друг другу, поскольку в те времена все в некотором смысле были детьми. Мы можем очень точно проследить, как и когда мифологическое мышление сменилось на историческое: ещё Геродот составлял свою историю наполовину из сказок и баек, а уже Фукидид поставил принципом максимально опираться на сколь возможно более достоверные источники информации.
Все это зарисовки, с разных сторон описывающие суть одного и того же явления. Картина мира — это совокупность всего того, что мы знаем или думаем о той реальности, с которой нам приходится взаимодействовать: природной, социальной, смысловой и т.д.
Очень много текстов Стругацких с разных сторон разбирают одну и ту же тему: столкновение одной цивилизации с другой, находящейся на более высоком уровне развития. Об этом «Трудно быть богом», «Обитаемый остров», «Улитка на склоне», «Жук в муравейнике», «Волны гасят ветер». Везде в центре оказывается фигура «прогрессора» — своего рода агента более высокой цивилизации, который вооружён в первую очередь даже не технологиями (их, в сущности, легко украсть и скопировать), а именно картиной мира более высокого уровня. Но если в ТББ, «Острове» и даже «Улитке» в «верхней» позиции находилась коммунистическая Земля, то «Жук» и «Волны» переворачивают схему: уже сам земной коммунизм сталкивается с более высокой цивилизацией Странников-Люденов, и внезапно интеллигентнейшие и образованнейшие прогрессоры-земляне становятся коллективным доном Рэбой. Это естественная реакция самозащиты социального организма, когда он сталкивается с другим, более высокоуровневым и только и именно поэтому смертельно для него опасным. И вовсе не потому, что у него есть лазерная стрелялка и машинка для печатания денег из воздуха.
Под этим углом зрения понятна и основная драма мира Гарри Поттера. Мир магов уже много сотен лет назад владел технологиями телепортации, ядерного синтеза и практического бессмертия; но это было лишь следствием владения набором знаний и навыков, радикально превосходящих таковые в профанном мире маглов. Однако с тех же времён существовали механизмы сдерживания и легендирования магии, включая такие продвинутые, как изменение сознания людей. Цель была, с одной стороны, ограничить влияние магического мира на профанный, а с другой — сдержать развитие наиболее экстремальных областей магии. Именно против этого и восставали сначала Гриндевальд, а потом и Волдеморт — и находили огромное количество союзников, потому что альтернативой было превращение магов в архаичный и замкнутый этнографический кружок: какая, к черту, совиная почта в эпоху мобильных мессенджеров? Слизеринские аристократы ставили на то, что у магов есть все для того, чтобы править миром смертных, вместо того, чтобы прятаться по лондонским сортирам и подворотням в мантиях-невидимках. Драма Дамблдора — в том, что он начинал с того же самого, но после гибели сестры поменял сторону. И теперь его адепты — это смешные фрики, которые не знают, как пользоваться телефоном и турникетом в метро. Волдеморт — это тот же Абалкин, убитый Поттером-Сикорски под руководством Дамблдора-Горбовского.
Я потому так подробно показал механику «столкновения цивилизаций» на примерах отечественной мифологии Стругацких и британской мифологии поттерианы, что они обе с разных сторон дают ключи к рассматриваемому предмету. Бесполезные знания, формирующие картину мира — это основные слагаемые цивилизационного превосходства, проявляющиеся там и тогда, где и когда вопрос встаёт ребром: какая из двух систем включит другую в свою собственную?
Гуманитарные знания имеют разную глубину и заточенность в разных системах. Скажем, в национальных государствах, слепленных по австро-немецкой кальке в Восточной Европе — от Чехии до нынешней Украины — весь арсенал гуманитарных дисциплин служит в общем-то узкой частной задаче: строительства и охраны определенной национальной идентичности. Там они носят в основном «боевой», прикладной характер. История нужна главным образом затем, чтобы рассказать, почему «мы» хорошие, а наши соседи — плохие и на протяжении веков пытались нас обидеть. Лингвистика нужна затем, чтобы сберегать национальный диалект и корпус литературы на нем, защищая его от внешних влияний и искажений. Философия, как правило, сводится к историософии — то есть опять же к поискам места своему маленькому-но-гордому народу на большой карте. Культурология и искусствоведение — вообще сугубо прикладные дисциплины для туристической отрасли. Продвинутые социология, политология или экономическая теория вообще низачем не нужны.
У мировых цивилизаций рамка гуманитарных дисциплин принципиально другая. Философия ищет ответы на вечные вопросы и организует мышление. История — это в первую очередь история мира, и лишь в ее контексте своя собственная. Филология и лингвистика — это инструментарий работы с языком высокого уровня, предназначенная для того, чтобы сделать свой язык способным воспринимать любые внешние языковые картины мира, любой глубины и сложности: скажем, чтобы на русском можно было понимать и японские танка, и китайскую классическую литературу, и толкования Корана, и ведические тексты, и мифологию африканских племен, и колумбийские vallenato, и немецкую классическую философию, и французскую литературу, и англоязычные учебники по венчурному финансированию. Психология, социология, культурология, политология и прочие антропологические дисциплины нужны затем, чтобы иметь развитый инструментарий работы с человеком и обществом, социальной инженерии и институционального конструирования.
Все они должны все это мочь, но это не является их основной «задачей». В узком смысле у них вообще нет «задачи» — по большому счету, они все не более чем формы интеллектуального досуга, создаваемые людьми — и обществами — которые могут себе позволить эту роскошь.
Если, конечно, могут.
Мы, очевидным образом, не можем. Мы — это надо понимать ясно — гораздо более бедные, отсталые и вторичные, чем Советский Союз. Мы, в отличие от него, не можем не то что бороться за мировое лидерство — но даже всерьёз претендовать на мировую роль. То, что у нас пока ещё есть отдельные атрибуты этой роли — не более чем дань инерции.
Нам нужны усердные труженики, хорошо владеющие востребованными на мировом рынке труда скиллами, для качественной и добросовестной работы на дядю. Ещё нужно небольшое количество так называемых «управленцев», способных переводить с языка команд, получаемых на английском, а то и китайском — на язык конкретных инструкций и ТЗ, разрабатываемых уже для местных исполнителей. Нужно несколько «евангелистов», способных опять же грамотно излагать на местном наречии содержание внешних методичек — где объясняется, что сейчас «в цивилизованном мире» модно носить, какую музыку можно слушать, какие фильмы смотреть и каких правильных убеждений необходимо придерживаться. Для дискурсивного разнообразия можно оставить им несколько титульно-статусных оппонентов, желательно максимально карикатурных и замшелых, которые с ними будут спорить, апеллируя к исконно-посконному — они все равно проиграют все споры, ибо «глубина колодца» по определению несопоставима. Ну и нужны коммуникаторы с туземным населением, удерживающие его от неправильных мыслей.
Собственно, весь этот набор «прогрессоров» прекрасно готовит ВШЭ. Никакие другие гуманитарные специалисты и гуманитарные науки, а равно и заведения, где их культивируют, по большому счету не нужны, и существуют пока только по инерции. Студент Егор Жуков — это и есть Максим из «Обитаемого Острова», только его Комкон — на родине Джона Голта, а Странники, разумеется, сидят в Кремле и Белом Доме.
Поэтому давайте поймём вот что. Любой филолог, историк, философ, искусствовед, культуролог, социолог и т.д., пытающийся сегодня заниматься этими дисциплинами на русском языке и сохранять преемственность с соответствующими традициями — это, в общем-то, партизан. Для государства он лишний рот, обременение в расходной части бюджета; для банды «прогрессоров» с перепрошитой на англоязычном коде картиной мира — прямой враг. Шансов изменить этот расклад в обозримой перспективе нет. Поэтому если он хочет сохранить свои знания и свою традицию — он должен научиться выживать и прятаться.
Центр — есть. Просто он в будущем. Те, кто его сформируют, возможно даже ещё не родились. Это все надолго, очень надолго. Надо научиться долгому времени.
Подпишитесь на наш телеграм-канал https://t.me/history_eco
- Алексей Чадаев,долгая история
Leave a reply
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.